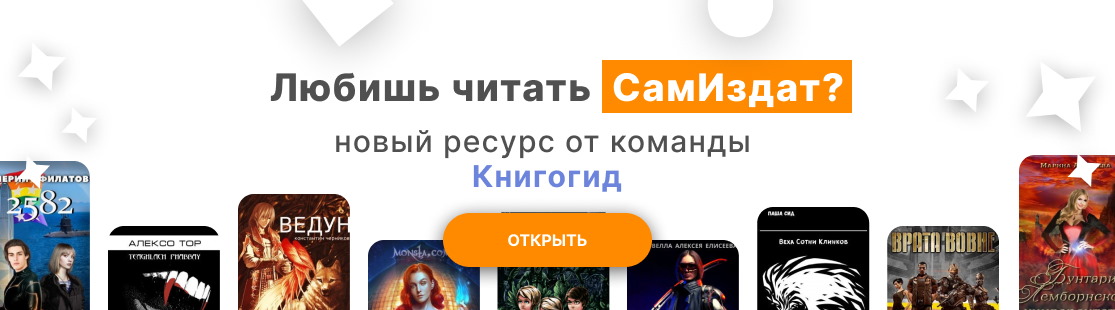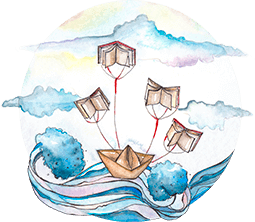Читать онлайн «Последние сутки доктора Фауста»
Автор Гурова Мария
– Еще нет, тетя Волда, – отвечал ей взрослый Фауст из космоса, пока Фауст в выглаженной рубашке доедал яйцо всмятку, которое у нерасторопной тетушки получилось почти вкрутую.
Она была до отвращения чопорна, как все западноевропейские женщины, вынужденные воспитывать чужих детей. Фауст пытался запихнуть в себя остатки хлеба, чтобы быстрее встать из-за стола. «Когда я влюблюсь, она будет совершенно другой. Моя возлюбленная не будет похожа ни на мою инфантильную мать, ни на тебя, тетя Волда». Фауст жевал желток и хлеб, молчал и обещал себе лучшую жизнь. «У нее будет красивое имя, как у средневековой принцессы. И сама она будет похожа на статуэтку рождественского ангела, а не на жабу в синтетическом костюме-тройке». Он доел завтрак. Теперь можно рывком преодолеть расстояние до входной двери, пока она не вцепилась в племянника со своими советами и утренними нравоучениями. «Это все бесполезно, Иоганн. Твои труды насмарку». Тетя Волда кричала ему вслед. Конечно, она произносила совершенно другие обыденные слова о сменной обуви, о походе к стоматологу, о факультативе по физике, но все это было бесполезно: его труды были насмарку. А еще, потому что медицина, философия и астрофизика не принесли Фаусту ничего, кроме мигрени и шумихи вокруг его спорных изысканий. «Ты не победил смерть, Иоганн». Сны были для Фауста восхитительной материей, которую он не мог измерить. Он боялся метафизики, потому что боялся безумия. Он знал, что метафизика может принести всякому заигравшемуся в нее ученому. И само явление образа и образного мышления манило Фауста. Однако он не находил в этой притягательной области никаких возможностей для решения фундаментальных вопросов, хотя полагал, что все подобные задачи рождаются в мире идей и вырастают решениями в мире вещей. Поэтому сейчас он спал и формулировал вопросы, ответы на которые хотел бы успеть получить. Это был беспрецедентный случай, но Фауст понимал, что жить ему оставалось не дольше девяти часов, хотя воздуха ему хватило бы еще на сутки. И все же не воздух был решающим фактором.
Ему снилась школа, университет, студенческие вечеринки, детская площадка перед домом, песок на ней и первые каникулы в Египте. Все это время Фауст ходил в светлой рубашке и был уверен, что у него впереди много времени. Казалось, что он родился в этой рубашке или в какой-то похожей. И вот ему снилась утроба матери.
Она была похожа на скафандр, о котором он тогда ничего не знал. Фауст чувствовал себя животным, потому что не мог описать мир вокруг. У него не было ассоциаций, не было понятий. У него были только рефлексы, которые даже не могли оформиться в желания. Он не знал, как приятно дышать воздухом после дождя, пить дорогой виски и смотреть в иллюминатор космического корабля. Настоящий Фауст был ничем не примечательнее паразита, живущего в организме другого живого существа и не осознающего, зачем он так поступает. Ответ на вопрос «Почему?» был простым: «Потому что все живое стремится жить». И все же Фауст спрашивал: «Зачем?». И оформившийся семимесячный эмбрион не понимал, что за голос в его голове звучит и почему так пугает. Иногда Фаусту казалось (и это было необычно для космических снов), что он находится не в материнской утробе, а в стеклянной банке с формалином. А за ее пределами видит кабинет средневекового врача. И в банке было холоднее, но спокойнее, потому что в ней он переставал быть животным и становился вещью. Когда Фауст концентрировался на своих ощущениях, то понимал, что не чувствует ничего, кроме энергии, которую сложно описать, не имея сознания, и которую невозможно заметить, имея гормоны. Он физически чувствовал рамки, чувствовал, что не знает мира за пределами кабинета, чувствовал, что не помнит ничего, что было до момента, когда вещь поместили в сосуд. Он чувствовал свои члены – нечто похожее на руки, ноги и две головы. Это все было его – человека, а не вещи. За несколько мгновений сна Фауст научился их разделять. Его покачивало в мутном растворе, как в невесомости, иногда подталкивая к холодному стеклу колбы, в которой он находился. Внезапно мир за пределами сосуда изменился и вместо кабинета Фауст увидел огромную голову, искаженное мужское лицо с длинным носом и завитыми черными усами. Большой рот что-то говорил, изредка демонстрируя свои пожелтевшие зубы. А потом он постучал по колбе ногтем указательного пальца. Этот стук был похож на выстрел в читальном зале библиотеки. В обволакивающей тишине он прогремел громче, чем ему положено. Стук повторялся, бил по ушам, как монотонный колокол, когда лицо усача вновь сменилось кабинетом. Стук, стук, выстрел.