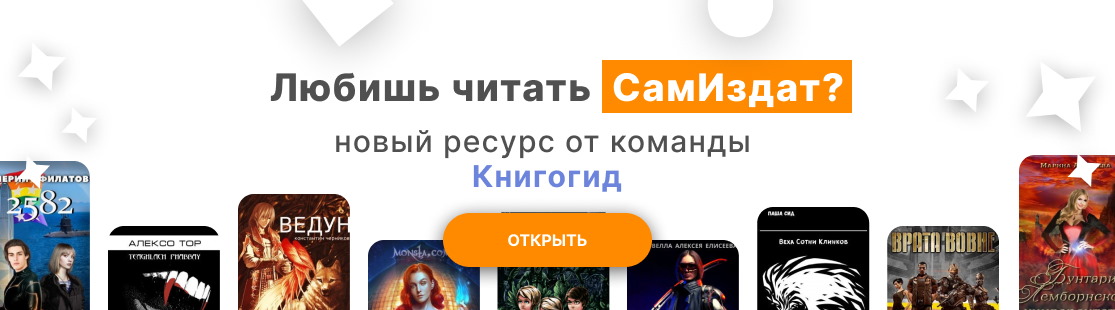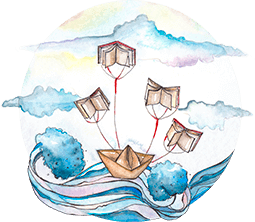Читать онлайн «Речь без повода… или Колонки редактора»
Автор Сергей Довлатов
Сергей Довлатов
Речь без повода… или Колонки редактора
ПЕТР ВАЙЛЬ
Из жизни новых американцев
Довлатову в газете нравилось. Вообще-то удивительно: ведь единственное, чего он в жизни по-настоящему хотел, хотел истово и целеустремленно, — стать писателем. В российской же традиции газетная журналистика стояла неизмеримо ниже по статусу, чем писательское занятие. Оттого-то, наверное, редакции советских газет набиты были несостоявшимися прозаиками и невоплощенными поэтами. Оттого так причудлива, не сказать — уродлива, была советская журналистика, что тоже претендовала на роль учителя жизни: тогда как было ясно, что роль эта занята литературой. И если в газете оказывался настоящий писатель, то было заметно уже от входных дверей, как снисходительно (в лучшем случае) или брезгливо (в худшем) он опускался в презренные глубины низкого жанра.
Все довлатовские географические передвижения определяло стремление стать писателем — не для круга друзей, а для всех, настоящим, с книжками: в соответствии с таким азимутом он перемещался с востока на запад. В Таллин перебрался из Ленинграда, потому что в Эстонии появился шанс издать книгу. Когда и эта надежда рухнула — решил эмигрировать и оказался в Нью-Йорке. За год до того в мичиганском «Ардисе» вышла его «Невидимая книга» — пора было выпускать видимые. В Штатах произошло торжество справедливости: явление писателя Сергея Довлатова.
И вот при всем этом Довлатов трудился в «Новом американце» вдохновенно и старательно. И вдохновенно, и старательно — что, опять-таки в российской традиции, обычно не совпадает. Свидетельствую, как подчеркнуто послушно он, главный редактор, принимал мелкие поручения секретариата — вычитать полосу, сочинить подпись под снимок, сократить заметку.
Как заинтересованно спрашивал, все ли правильно исполнено, как расплывался от похвалы.Не надо переоценивать: во всем ощущался оттенок иронической игры. Но не надо и недооценивать: игра воспринималась серьезно.
«Новый американец» был вообще предприятием во многом игровым. В каждом общественном движении есть юношеский, если не детский или подростковый, период — самая прекрасная пора, когда все милы и любезны друг другу и друг с другом, когда кажется, что заняты действительно важным и нужным.
К слову сказать, сейчас я понимаю, что мы делали и вправду что-то существенное. На дворе стояло начало 80-х, на востоке — незыблемый Советский Союз, а наша третья волна эмиграции только-только обосновывалась в Штатах. Там единственным источником информации по-русски была ежедневная газета «Новое русское слово», где тон задавали первые две волны. В целом эмиграция идеологически представляла собой монолит не хуже советского, только с обратным знаком. Современный русский язык называли «совдеповским жаргоном». Писатель Андрей Седых, главный редактор «Нового русского слова», где я проработал два года, пока не перешел в «Новый американец», от меня впервые услышал имена Искандера и Шукшина, на уговоры посмотреть фильм Тарковского добродушно отвечал: «Голубчик, я последний раз в сорок пятом году был в синема». К востоку от Карпат предполагалась выжженная земля, которая не могла, не должна была произвести ни одного ростка зелени, ни одного цветка. То, что мы оттуда прибыли на Запад во второй половине 70-х, видимо, проходило по разделу чудесного спасения. К нам и относились заботливо, но именно как к спасенным: им делают искусственное дыхание, а не заводят разговор о красотах прибоя. Мы, конечно, не зачислялись в «красную сволочь», но «розовая эмиграция» служила стандартным определением.