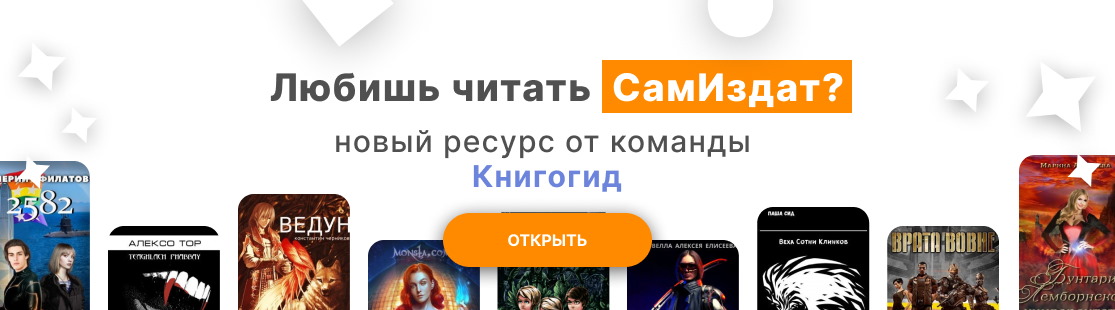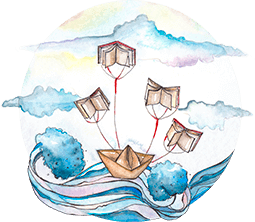Читать онлайн «Любовь Жанны Ней. Жизнь и гибель Николая Курбова»
Автор Илья Эренбург
Эренбург... уже не русский писатель, а европейский, и именно потому — один из современнейших русских. Это, конечно, еретик настоящий. У настоящего еретика есть то же свойство, что у динамита: взрыв (творческий) идет по линии наибольшего сопротивления.
Цыпленки тоже хочут жить
1
Воздвиженка. Казенный дом, с колонками, рыжий, — дом как дом. Только не пешком — автомобили не входят — влетают, и все с портфелями. Огромный околоток, кроме нашего Ресефесера, еще с десяток республик — аджарских, бухарских, всяких. А вывеска простенькая — как будто дантист, — заржавела жестянка:
Вот где ее гнездо! Отсюда выходят, ползут в Сухум и в Мурманск. Скрутили, спаяли, в ячейки яички свои положив, расплодились, проникли до самых кишок, попробуй — вздохни, шевельнись не по этим святым директивам!
Стучат машинки: цок, цок, цок!
— Товарищ, заготовьте бумаги в ЦУС, в ЦОС и в Снабарм!
— Резолюция при двух воздержавшихся…
— На подпись инструкцию…
— Занести в исходящие…
А в подъезде бабка плачет:
— Да как же? Куда же? Угла лишили… вселили… Охальник, машинку принес и прямо в ухо пущает!. .
Злится курьер:
— Иди в жилищно-земельный, знаешь, глупая, что здесь? Цека!
— Я и туды, и сюды…
Дверь прикрыл — мороз напускает. Не скажет.
— В Тамбовском уезде убиты четыре товарища.
— Губком доносит, что все расстреляны…
— Тезисы по борьбе с церковью.
— Детская смертность в немкоммуне…
— Цифры?
— Умер от тифа товарищ Зыков.
— Послать Ракитина.
И надо всем — одно слово, тяжелое, темное слово: «Мандат»!
Оргбюро. Распределение работы. Толпятся с портфелями обросшие, обмотанные. Ведь когда-то ходили в пивные, заедали моченым горохом и воблой, читали альманахи «Шиповник», даже влюблялись, охали, а теперь нельзя: ну, как на своей кровати перевернуться с боку на бок? Инструкция!. .
— В Наркомпрос — двое! В Рабкрин — трое! Вы, товарищ Блюм, — в Туркестан!
Целый час уже распределяют, отсылают, машинистки стучат. Мандаты. Стемнело, пыльная лампочка, махорочный дух, чайная чашка с отломанной ручкой, даже уют, семейственность, после мороза. Всюду послали, только осталось в чеку. Трудное дело. Кому же охота? Все норовят на чистое, даже душевное, с романтическим блеском, при магнии. Всякому лестно сидеть в инотделе и Англию с тибетских вершин поддразнивать красненьким флажком. Или: раньше ребят, за конспектами сидя, как-то вообще не замечали — теперь педагоги. В чеку же идут лишь коммунисты последнего выпуска: нос угреватый в бобровый уют окунуть или на Кисловке пирожное «наполеон» с кремом давить языком, не считая косых. А нужно в чеку большого, святого почти, хотят к палачеству приставить не палача — подвижника, туда, где сети с уловом: доллары, караты, где кровь окисшая, со сгустками, где можно души с вывертом щипать, где всякий рыженький сопляк в каскетке — Ассаргадон, не человека — пункт программы, но с руками, с глухим баском — подписывать и утверждать.