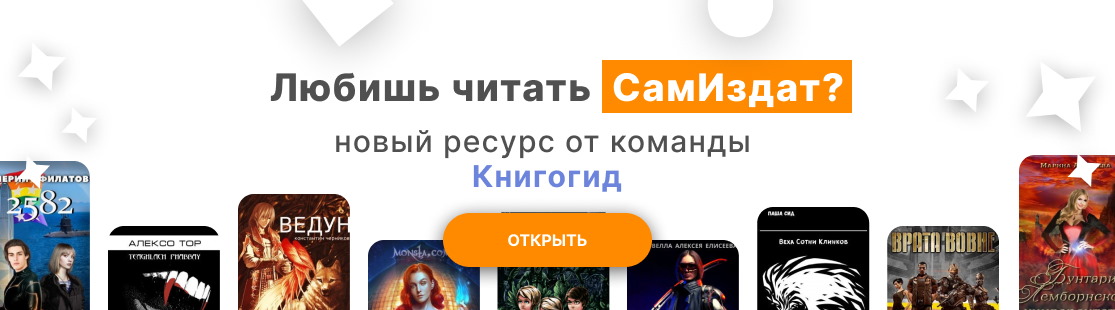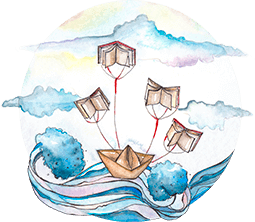Читать онлайн «Человек и оружие»
Автор Олесь Гончар
Олесь Гончар
Человек и оружие
Еще бестревожно ходят по городу те, которым суждено биться на боевых рубежах, вырываться из окружения, гореть в кремационных печах концлагерей, насмерть стоять у Сталинграда и штурмовать Берлин; еще стоит на возвышении посреди города серый массивный ДКА — Дом Красной Армии, где через несколько лет — на месте, расчищенном от руин, — будет зажжен вечный огонь на могиле Неизвестного солдата.
Еще все как было.
Еще, разбредясь с самого раннего утра по паркам и библиотекам, забравшись в опустевшие аудитории факультетов, склонились над конспектами студенты — готовятся к последним экзаменам.
Двое из них сидят в пустой аудитории истфака. Утром, когда пришли сюда, Таня сама загородила дверь стулом. Богдан стоял в стороне и улыбался. Упрямства и горячности было у нее куда больше, нежели силы в руках. Все же Таня справилась со стулом, забаррикадировалась, заперлась, как хотела: прочно, словно бы от всего мира. И, порывистая, с растрепанными волосами, обернулась к Богдану:
— Теперь тебя никто у меня не отберет!
Они посмотрели на заложенную стулом дверь и рассмеялись: действительно, теперь они тут одни со своей любовью. Только вчера помирились они после тяжелой размолвки. Это была одна из тех размолвок, которые возникают между влюбленными из-за пустяков, почти из ничего, но значат для них больше, чем самые серьезные мировые проблемы. Теперь им ясно, что не стоило ссориться; не хотелось и вспоминать об этой легкомысленной беспричинной ревности, которая отняла у них столько счастливых дней. Сейчас, помирившись, они как бы заново упивались своим чувством, возрожденным, переболевшим и оттого еще более жадным и горячим. Если бы это зависело только от Тани, она в знак примирения весь день целовалась бы с ним здесь, забыв про конспекты. Она потянулась к Богдану, к милому своему Богданчику: целуй!
Он легко подхватил ее на руки и, на ходу осыпая горячими поцелуями, понес в самый дальний угол, посадил, как школьницу, на стул:
— Сиди!
Положил перед нею ее небрежно свернутые, покрапленные парковыми дождями конспекты:
— Учи!
Теперь она сидит и зубрит крестовые походы.
Не столько, правда, зубрит, сколько наслаждается своими мечтами, своими светлыми девичьими видениями. Время от времени украдкой, счастливо и воровато поглядывает на Богдана.Погруженный в конспекты Богдан сидит в другом конце аудитории, перед самой кафедрой. Вот он поправил шевелюру. Таня видит его руку, сильную руку спортсмена. Нахмурившись, он снова окунулся куда-то в средние века. Такой вот задумчивый, в поношенной рубашке, с аккуратно засученными выше локтей рукавами, Богдан ей особенно нравится. Сколько мужественности во всей его фигуре, в густом непокорном чубе, откинутом назад! Даже вот так, когда Богдан сидит, по его складной высокой шее видно, какой он стройный. По-цыгански смуглый — девчата говорят, что он красавец, но для нее он больше, для нее он — само счастье.
Несколько дней назад, когда между ними произошел разрыв, думала — не переживет. Жизнь без него сразу погасла, поблекла, утратила смысл. Несчастная, измученная ревностью, убитая горем, бродила Таня вечерами по городу, по каменным катакомбам кварталов, живя одной надеждой: хоть случайно встретить его где-нибудь, хоть издали глянуть, когда он будет возвращаться из библиотеки в общежитие. Больше всего боялась увидеть его с другой, с какой-нибудь незнакомой девушкой редких, исключительных достоинств, к которой заранее ревновала — ревновала до потемнения в глазах. А он всякий раз возвращался из библиотеки с хлопцами; шагал мрачный и недоступный, с конспектами и буханкой под мышкой. Притаившись где-нибудь, Таня жадно следила за ним, пока ребята не исчезали в сумраке вечерней улицы.