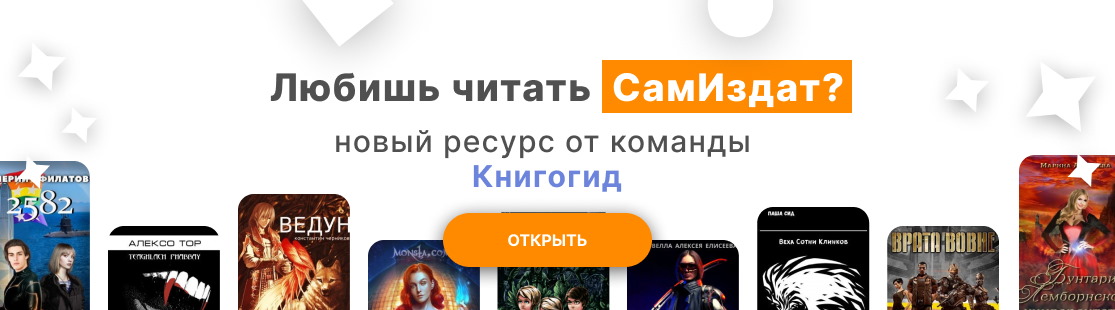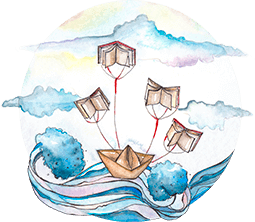Читать онлайн «Жюли де Карнейян»
Автор Сидони-Габриель Колетт
Сидони-Габриель Колетт
Жюли де Карнейян
Госпожа де Карнейян выключила газ, оставив фарфоровую кастрюльку на плите. Рядом расположила чашку ампир, шведскую ложку, ржаной хлебец, завёрнутый в турецкую салфетку, вышитую кручёным шёлком. Запах горячего шоколада вызвал у неё нервную зевоту. Позавтракала она не слишком плотно – холодной свиной котлетой и ломтиком хлеба с маслом, полуфунтом смородины и чашкой очень хорошего кофе, – не отрываясь от шитья треугольной подушки, выкроенной из старых, выцветших почти добела вельветовых брюк для верховой езды. Из очень тонкой стальной цепочки, когда-то, как говорила Жюли де Карнейян, принадлежавшей обезьяне, – но её брат уверял, что это обезьяна принадлежала цепочке, – она собиралась выложить на одной стороне подушки «К» или, может быть, «Ж»… «"К" легче вышить, зато «Ж» – нарядней. Будет смотреться…»
Она закрыла дымящуюся кастрюльку, положила прихватку на фаянсовую плитку. Залила водой банку из-под молока, накрыла крышкой круглый помойный бачок. Принеся достаточную жертву своим принципам образцовой хозяйки, она вернулась в студию. Проходя перед зеркалом в прихожей, втянула ноздри, придав своему лицу излюбленное выражение, подчёркивающее, как она говорила, её сходство с породистым зверем.
Заслышав как будто голоса на лестнице, она поспешила надеть шляпу, накинула светлое пальто, ворс которого очень походил оттенком на бежево-белокурые волосы Жюли, коротко остриженные и завитые а-ля Каракалла. Она откинула в сторону поношенные перчатки, потом снова взяла: «Для кино сойдёт»; наконец, села ждать в своё лучшее кресло, погасив предварительно две лампы из четырёх. «Следующий раз не стану использовать для декора синий с красным, – думала она, оглядывая студию.
– Разоришься на электричестве с двойным освещением».Одна красная стена, одна синяя и две серых обрамляли разнородную обстановку, не лишённую приятности, только, пожалуй, несколько перегруженную колониальными вкраплениями – индокитайским столиком с двадцатиугольной медной столешницей, креслом из шкуры южноафриканского буйвола, дублёными кожами из Феса и гвинейскими упаковочными корзинами из-под английского табака. Остальная мебель – добротный французский XVIII век – держалась на ногах трудами сильных ловких рук госпожи Карнейян, умевших подклеить, закрепить, а то и вставить металлическую планку в обветшавшее дерево или в подгибающиеся ножки кресла.
Она просидела в ожидании минут десять, терпеливо – в силу врождённого смирения, очень прямо – в силу самодисциплины и благоприобретённой гордости. Ладная шея, грудь, не поддающаяся старению, – она с удовольствием разглядывала их в большом зеркале без рамы, придававшем студии пространственную глубину. Сноп лошадиных и собачьих хлыстов, возведённых в ранг коллекционных предметов за то, что они были с Кавказа и из Сибири, завитками ремешков свешивался на зеркало.
Жюли де Карнейян снова взялась за шитьё подушки, прикинула начерно рисунок буквы и тут же разочаровалась: «Никаких иллюзий. Отвратительно».
Спустя десять минут ожидания прелестный и гордый нос, узкие твёрдые губы Жюли нервно дрогнули, и две слезы заблестели в уголках её голубых глаз.