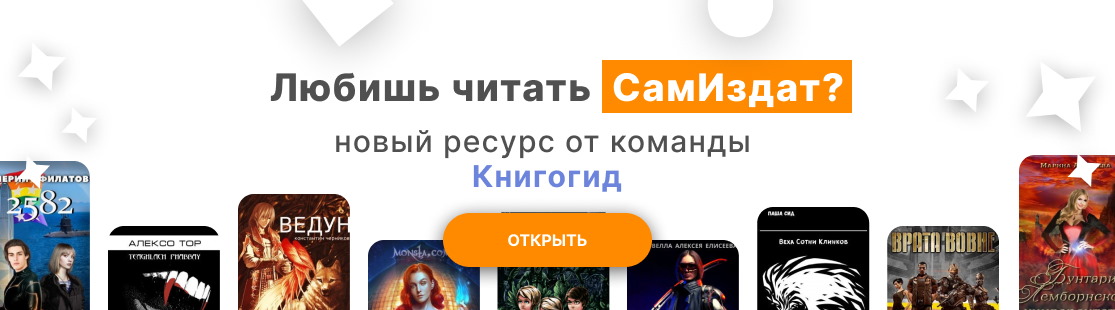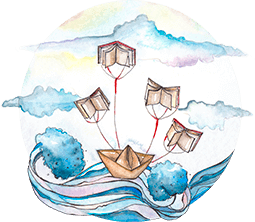Читать онлайн «Бесиво»
Автор Леонид Бородин
БЕСИВО
…Предосенняя хмурота тошна всякому. Потому что в природе, как вообще в жизни, есть свои хорошести и нехорошести. Хотя, опять же, с другой стороны, всё правильно. Но правильность и хорошесть, если к человеческой жизни применить, часто вразрез. Взять, к примеру, умного или глупого, богатого или бедного, работягу или охламона последнего — одинаково. Приходит время, и умирают. По природе правильно. А что хорошего?
Ползут ниже неба серые тучи, ветер холодный лист на дереве треплет, а лист уже не цветастый, как днем раньше, а тоже серый, как тучи. И ни в чем человеческому глазу радости нет. Одна обида на душе. И вовсе не на осеннюю хмуроту обида, а на жизнь, в которой все правильно, да не все хорошо. А то и вообще ничего хорошего. И стоит только человеку сказать хотя бы и не вслух, что ничего хорошего нет в его конкретной жизни, как тут же тоска прочь, а заместо тоски та самая хмурота, что в природе, она самая, сперва в душу вползает, злость глаза сощуривает, челюсти стискивает, через горло, опять же, назад в тело сплывает, и вздуваются жилы во всем теле недоброй силой. Тут тебе и готов человек к злому делу. А злое дело — оно всегда под рукой, к нему ума не требуется — одной охоты хватает.
Так или, скажем, почти так начала Валентина Андреевна рассказывание истории братьев Рудакиных, бывших ее соседей по ныне вымершей деревне Шипулино. Теперь-то не шестидесятые и даже не девяностые, а вовсе запредельные времена. Попробуй-ка в сей день отыскать человека, любящего и знающего толк в говорении, — чтобы со смыслом и интеллигентному уху отрадно.
Присмотришься иной раз к какой-нибудь почти распутинской старухе или к почти беловскому старику, подкатишься-подмылишься на разговор, да и нарвешься на такую неоригинальную матюгатину, что хоть в запой уходи от тоски.Отчего, кстати, русский интеллигент периодически, а иногда и систематически пьянствует? Да все оттого, что ему то за державу, то за народ обидно. Великая причина для великой тоски. Однажды, правда, слышал признание очень интеллигентного человека, что пьет он исключительно по причине сучье-подлючей сути экзистенции, от каковой только в запое и есть спасение. Что ж, спасаться никому не запретишь, если жизнь — сплошная тягомотина.
Но мне, однако ж, повезло. В деревне Шипулино, к тому времени чуть ли не полностью скупленной полуновыми-полурусскими, я оказался случайно. По рыбачьим делам.
Еще при въезде в деревню глаз подметил густо заросшее крапивой и прочими сорняками давнее пожарище на самом краю деревни. Что-то нетипичное было в этой печальной картинке. Не тронуто пожарище — вот что. Стены кирпичного пристроя — ни малейших признаков прикосновения. И это в наше-то время, когда, что бы плохо ни лежало, рано или поздно убежало. Добротный забор на задах припал к земле, но целехонек каждой слегой, каждой доской. И мощная русская печь по центру пожарища с обвалившейся трубой примерно по чердачному уровню — как надгробие…
В коротких общениях у колодца я попытался выспросить, что да почему… И был заинтригован многозначительными ухмылками или хмурыми отговорками. Любопытство мое поначалу не имело ни малейшей литературной корысти и было спровоцировано исключительно вынужденным бездействием и той самой «хмуротой» меж землей и небом, что начисто ломала мои планы.