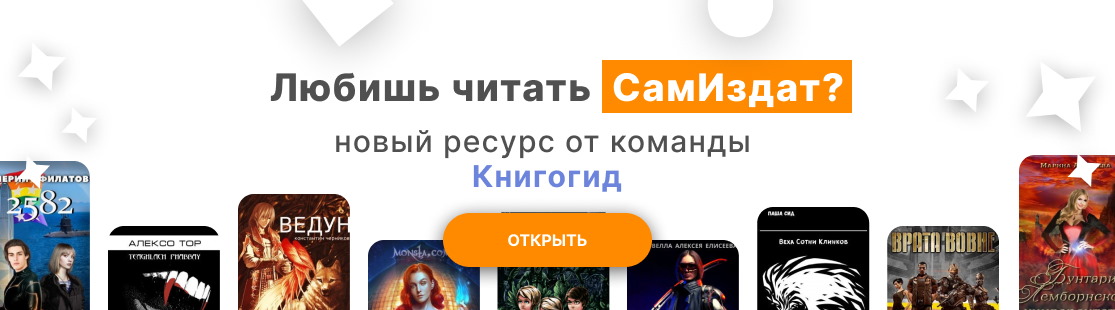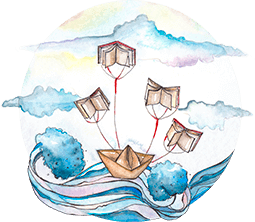Читать онлайн «Одна ласточка еще не делает весны»
Автор Герман Садулаев
Герман САДУЛАЕВ
Одна ласточка еще не делает весны
Наверное, я могу жить так и дальше. Утром выключать звенящий в мобильном телефоне будильник, чистить зубы, бриться, набирать ванну и полчаса лежать в теплой воде, растворяя ночные сны. Днем идти или ехать, перебирать бумаги, упражнять лицевые мышцы и связки гортани, делать все, что называют словом “работа” и за что мне заплатят деньги. Вечером читать книги. Так можно жить вечно. Как будто ничего больше нет. Как будто ничего больше не было.
И если сны — это только сны, они растворятся утром в теплой воде.
И если память — это тоже сны, она растворится в потоке улицы.
И если мысли — они о снах и о прошлом; а снов нет, и прошлое — тот же сон.
И если сердце...
Если сердце не остановится.
Однажды оно остановится.
И я расскажу тебе мою любовь, мой страх, мое одиночество, горечь мою и сладость, мою вину перед тобой, мама.
Сможешь ли ты простить меня? Помнишь, я ходил по твоим лугам, сидел у твоих ручейков, обнимал деревья твои; ты мурлыкала мне кошкой на коленях, ты пела ласточками, синими звездами ты светила мне. Я был твоим младшим, и ты любила меня, я знаю, ты любила меня больше остальных. Может быть, потому что я был нездоров, слаб и застенчив. Мать всегда больше любит того, кого жалеет. Другие гордые, сильные, независимые, а я приходил к тебе и клал свою голову на цветы и травы, и ты ласкала меня. И слова складывались в строчки, я пел тебе песни и читал стихи, в зарослях высоких, в полный рост лопухов. И ты улыбалась мне, да, но ты не смеялась. Ты обнимала меня ивовыми ветками и прятала от других; пусть никто не увидит, никто не скажет, что мой мальчик немощен и безумен, в нем вся душа моя.
И я любил тебя так, как никто не любил. Когда тяжелыми ночами ты стонала от боли, ты плакала, я сидел с тобой на нашем старом диване, я гладил твои ноги в шишках от солевых отложений, и еще это страшное слово “тромб”, я жег его жестким лучом своих глаз, я растворял его слезами. А днем я снова засыпал на уроках, я молчал у доски, я ничего не отвечал учителям, брал свой дневник и садился. Я не мог сказать: моя мама больна. У моей мамы третью ночь не проходят боли.
А потом я бросил тебя. Мне стало душно, страшно, невыносимо. Я убежал. Это большой паук, вот он ползет по тонкой паутине, и мне страшно, мне страшно, мама! Я закрываю глаза. И сразу — нет паука. Ведь это мой кошмар, а я убегу, я закрою глаза, и его больше не будет.
Я давно хотел убежать. Потому что я знал, ты должна умереть, и ты будешь умирать мучительно, долго. Я не мог этого видеть. Во мне жил страх, страх, мама!
Ты зеленела свежей травой на лужайках, ты украшала себя ромашками и одуванчиками, и золотом самой высшей, осенней пробы ты тоже украшала себя. А я чувствовал солевые отложения под твоей кожей, я пил с виноградным соком твою кровь, и она была слишком сладкой, слишком высокий уровень сахара, так сказал доктор. И тромб, я видел, как глубоко под землей, он медленно движется по артерии, все ближе и ближе к твоему нежному сердцу.
Когда ковш экскаватора пробороздил твое любимое тело, на краю поля, за нашим домом, я опустился на дно, я прижался щекой к твоей теплой, ароматной плоти. Она пульсировала и дышала, и она была больна, больна предчувствием.