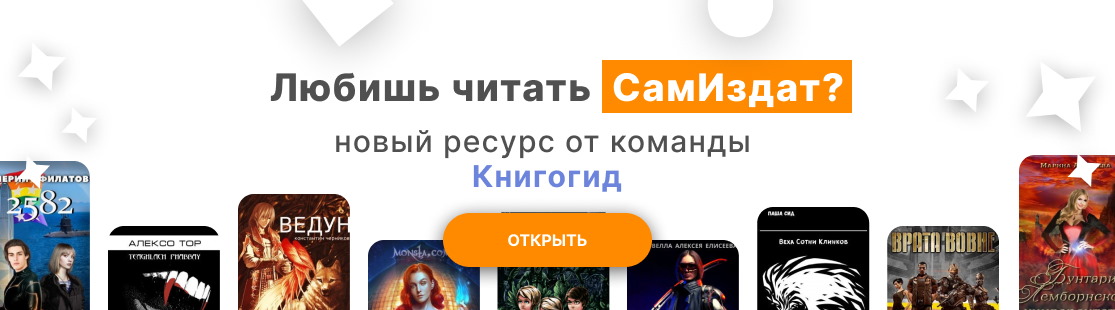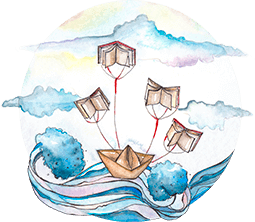Читать онлайн «Серый автомобиль»
Автор Александр Грин
Александр Грин
Серый автомобиль
1
16 июля, вечером, я зашел в кинематограф, с целью отогнать неприятное впечатление, навеянное последним разговором с Корридой. Я встретил ее переходящей бульвар. Еще издали я узнал ее порывистую походку и характерное размахивание левой рукой. Я раскланялся, пытаясь отыскать тень приветливости в этих больших, с несколько удивленным выражением глазах, выглядящих так строго под гордым выгибом шляпы.
Я повернулся и пошел рядом с ней. Она шла скоро, не убавляя и не прибавляя шага, иногда взглядывая в мою сторону, помимо меня. Я замечал, что на нее часто оглядываются прохожие, и радовался этому. «Некоторые думают, вероятно, что мы муж и жена, и завидуют мне». Я так увлекся развитием этой мысли, что не слышал обращений Корриды, пока она не крикнула:
– Что с вами? Вы так рассеянны. Я ответил:
– Я рассеян лишь потому, что иду с вами. Ничье другое присутствие так не распыляет, не наполняет меня глубокой, древней музыкой ощущения полноты жизни и совершенного спокойствия.
Казалось, она была не очень довольна этим ответом, так как спросила:
– Когда окончите вы ваше изобретение?
– Это тайна, – сказал я. – Я вам доверяю более, чем кому бы то ни было, но не доверяю себе.
– Что это значит?
– Единственно, что неточным объяснением замысла, еще во многих частях представляющего сплошной туман, могу повредить сам себе.
– Тысяча вторая загадка Эбенезера Сиднея, – заметила Коррида. – Объясните по крайней мере, что подразумеваете вы под неточным объяснением?
– Слушайте: лучше всего мы помним те слова, которые произносим сами. Если эти слова рисуют что-либо заветное, они должны совершенно отвечать факту и чувству, родившему их, в противном случае искажается наше воспоминание или представление. Примесь искажения остается надолго, если не навсегда. Вот почему нельзя кое-как, наспех, излагать сложные явления, особенно если они еще имеют произойти: вы вносите путаницу в самый процесс развития замысла.
Эту тираду мою она выслушала с любезной миной, но насторожась; я чувствовал, что мое общество становится ей все тягостнее. Мы молчали. Я не знал, попрощаться мне или идти далее. К последнему я не видел поощрения, наоборот, лицо Корриды выглядело так, как если бы она шла одна. Наконец, она сказала:
– Брат подарил мне новый «Эксцельсиор». Большое общество отправляется на прогулку через два дня; это будет настоящее маленькое скорострельное путешествие. Я присоединяюсь. Хотите, я возьму вас с собой?
– Нет, – сказал я твердо, хотя острое мучение она слышала, надо думать, в тоне этого слова. Не желая показаться грубым, я прибавил:
– Вы знаете, как я ненавижу этот род спорта. – Я едва не сказал: «эти машины», но предпочел более общее уклонение.
– Но почему?
– Я некогда довольно распространился об этом в вашем присутствии, – сказал я, – я вызвал веселый, слишком веселый смех, и не хотел бы слышать его второй раз.
– Решительно вы озадачиваете меня. – Она остановилась у подъезда, взглянув мельком, прищуренными глазами на вывеску мод, и я понял, что надоел. Вывеска была только предлогом. – Да, вы озадачиваете меня, Сидней, и я думаю, что лишь плохое состояние ваших нервов причиной такой странной ненависти к… к… экипажу. – Она рассмеялась. – Прощайте.