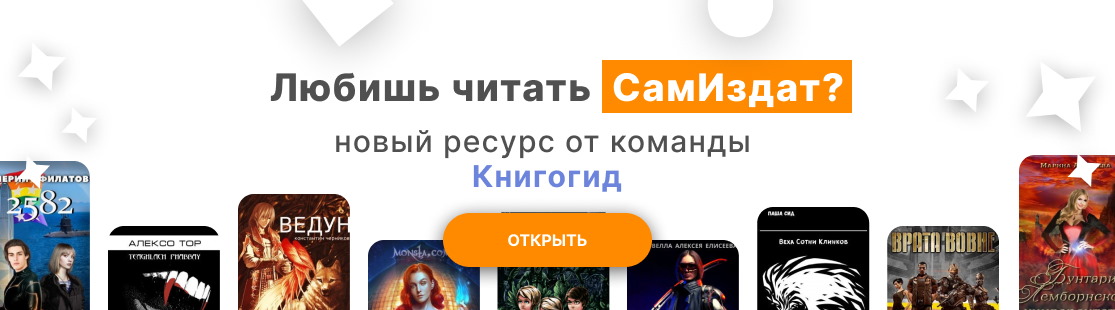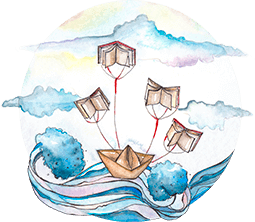Читать онлайн «Психоанализ и математика. Мечта Лакана»
Автор Сержио Бенвенуто
Сержио Бенвенуто
Психоанализ и математика. Мечта Лакана
МУЗЕЙ СНОВИДЕНИЙ ФРЕЙДА
перевод с английского
Максима Колопотина,
Виктора Мазина,
Нины Харченко
под редакцией
Виктора Мазина
и Гарриса Рогоняна
© С. Бенвенуто, 2006
© М. Колопотин, перевод, 2006
© В. Мазин, перевод, 2006
© Н. Харченко, перевод, 2006
© Музей сновидений Фрейда, 2006
© Издательство «Алетейя» (СПб. ), 2021
Введение
Название этой книги, «Мечта Лакана», обещает, что речь пойдет о чем-то несуществующем. И действительно, как противники Лакана, так и его сторонники сходятся в одном: лакановская философия не имеет ничего общего с философией аналитической!
Хорошо известно, что Лакан обязан своей интеллектуальной подготовкой мыслителям весьма далеким от аналитической философии. Его биографы, да и сам Лакан, утверждают, что многие свои соображения он унаследовал от Декарта, Спинозы, Гегеля, Хайдеггера и, конечно же, Фрейда. Значительное влияние на него оказали знаменитые семинары по «Феноменологии духа» Гегеля, которые проводил в 1930-годы Александр Кожев (на самом деле, все основные ранние положения Лакана проистекают из кожевской интерпретации Гегеля). Кожев предложил весьма оригинальную интерпретацию гегелевской философии, которая, согласно гегелеведам, не столько следует за Гегелем, сколько за более поздней философской феноменологией, в частности – за Хайдеггером. Так что, если мысль Лакана – и вместе с ним психоаналитическая мысль вообще – не принимает во внимание даже в малой степени аналитических философов, то происходит это потому, что его основные каноны находятся в согласии с Гегелем – Гуссерлем – Хайдеггером – Кожевым, т. е. с тем, что в США и Великобритании называется с оттенком пренебрежения «континентальной философией».
Прошу у читателя прощения за то, что перейду теперь к некоторым автобиографическим заметкам.
Думаю, читатель меня простит, ведь моя история не является такой уж личной, поскольку совпадает с духовной эволюцией многих людей моего поколения в континентальной Европе. В конце 1960-х годов я начал изучать «Сочинения» Лакана и посещать его семинары, которые меня совершенно зачаровали. Лакановская философия поразила меня, с одной стороны, своей экзотичностью (прежде всего, невероятно сложным стилем письма), а, с другой, – она казалась хорошо знакомой и убедительной. Будучи молодым студентом в Париже, я как следует переварил так называемый французский экзистенциализм (Сартр), феноменологию (Гуссерль, Хайдеггер, Мерло-Понти, Рикер), структурализм (от Леви-Строса до Барта) и неклассифицируемых вольнодумцев от философии, типа Клоссовского, Батая, Бланшо и Фуко, а также Фрейда и психоанализ, который я сразу же воспринял с большим энтузиазмом. С учетом всей этой подготовки, я чувствовал себя с Лаканом, вопреки всем сложностям, в своей тарелке. Несмотря на все различия между Лаканом и его предшественниками, между ними легко можно увидеть и некое сродство. Только многие годы спустя, я уловил, что это чувство общего дома исходило от Кожева, от поколения 1930-х гг. , которое сумело четко прикрепить французскую философскую мысль к феноменологии и великой немецкой философии. Я бы даже взял на себя смелость сказать, что более семидесяти лет французская культура была кожевской, даже если зачастую этого и не осознавала. В течение всех этих лет французские интеллектуалы барахтались в совершенно особом и безошибочно узнаваемом стиле (который для многих людей просто невыносим). Вот почему при столкновении с совершенно разными интеллектуалами, такими, например, как Сартр и Леви-Строс, Фуко и Барт, Альтюссер и Деррида, возникает ощущение, что все они принадлежат одной семье. Каждый интеллектуал несет на себе некий исходный отпечаток: с 1930-х годов парижская культура сохраняла даже не столько гегелевский дух, сколько гегеле-кожевский,