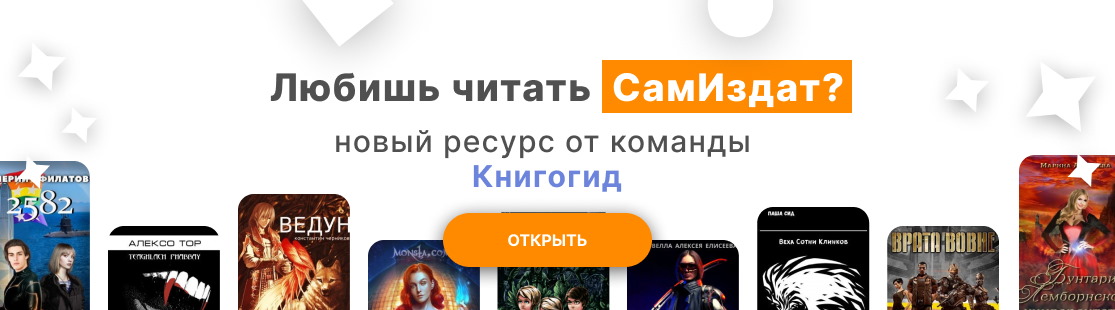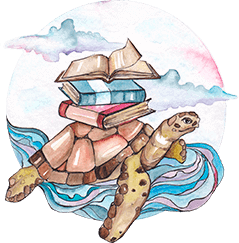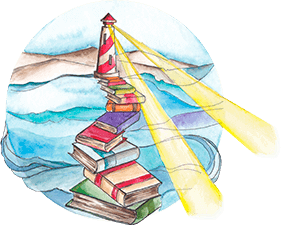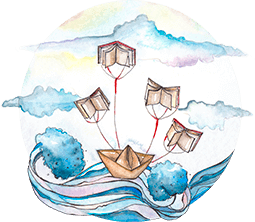Читать онлайн «Последний из "отцов". Биография Ивана Аксакова»
Автор Андрей Тесля
А. А. Тесл я ПОСЛЕДНИЙ IB «ОТЦОВ» 1^1 Издательство «ВЛАДИМИР ДАЛЬ» 2 0 15
УДК 1(470X091) + 092 ББК 87. 3(2) Т36 Тесля А. А. Т36 «Последний из „отцов”»: биография Ивана Аксакова. — СПб. : «Владимир Даль», 2015. — 799 с. ISBN 978-5-93615-156-9 Работа является первым опытом подробного биографического очерка Ивана Сергеевича Аксакова (1823—1886), младшего сына С. Т. Аксакова, яркого представителя аксаковского семейства, знаменитого в русской литературе и интеллектуальной истории, «последнего из „отцов”» славянофильского учения, по выражению о. Иосифа Фуделя. Своеобразие и мощь личности И. С. Аксакова предстает на фоне современников, в первую очередь других представителей славянофильского кружка, каждый из которых был оригинальным, неординарным дарованием. В приложении приводятся письма И. С. Аксакова к его невесте (А. Ф. Тютчевой) и к выдающемуся русскому историку и общественному деятелю М. О. Кояловичу. Книга рассчитана как на специалистов в области истории русской общественной мысли XIX века, так и на широкий круг читателей. УДК 1(470X091) + 092 ББК 87. 3(2) Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной программы «Культура России (2012—2018 годы)» © А. А. Тесля, 2015 © П. Палей, оформление, 2015 ISBN 978-5-93615-156-9 © Издательство «Владимир Даль», 2015
Родным ПРЕДИСЛОВИЕ В первую очередь необходимо сказать, чего не следует ждать от этой книги — она не является ни подробной биографией Ивана Аксакова, ни систематическим изложением его взглядов. Не является она и текстом в почтенном жанре «NN и его время». «Время», разумеется, присутствует — по крайней мере автор к этому стремился — но лишь в той мере, в какой это было необходимо для основной цели повествования: очертить личность Ивана Аксакова — ее же своеобразие, несомненно, исторично. Он был не только неординарен (даже в рамках своего семейства, богатого талантами), но и сама манера его публичного поведения, способ жить и действовать были программой, осознаваемой, простраиваемой, многократно обсуждаемой и объясняемой родным и близким. Для этого мы выбрали форму эссе — жанр наиболее свободный, заведомо не претендующий ни на исчерпывающий характер описаний, ни на полноту выводов: мы стремились не к полноте, а к акцентированию тех моментов жизни Аксакова (не отделяя и не противопоставляя «жизнь» «мысли»), в которых видна ситуация (и можно ухватить то самое «время», плотность которого нами каждый раз ощущается при движении от эпохи к эпохе, и которое плохо укладывается в любые формулировки, вынуждая прибегать не к объяснениям, а к указаниям — вроде упомянутых «эпох», «духа времени» и т. п. ). Каждый автор надеется, что читатель прочтет книгу целиком — и понимает неразумность такой надежды. Отсюда дополнительная необходимость прояснить структуру книги: 1. Главы основного текста, за исключением четвертой, можно прочесть как последовательный биографический очерк.
32. Четвертая глава посвящена нескольким вопросам, из числа имевших особое значение для Аксакова: a. Его учению об обществе, народе и государстве, определяющему политическую программу. b. «Польскому вопросу» и связанным с ним вопросам: «украинскому» и «западного края», где раскрывается его понимание национального проекта и одновременно некоторые из числа проблем, с которым столкнулся последний. c. Религиозным взглядам — и пониманию церковных вопросов, присущему ему и близким к нему по взглядам публицистам славянофильского направления. 3. Документальные приложения (А, В, С и D), представляющие собой тексты Аксакова — его неопубликованную статью из цикла «О взаимном отношении народа, общества и государства» (В), письма к А. Ф. и Е. Ф. Тютчевым (А, С) и к М. О. Коя- ловичу (D). Включая первые три приложения непосредственно в текст, мы стремились придать изложению объемность — в особенности это относится к письмам к А. Ф. Тютчевой, написанным в период между официальной помолвкой и венчанием: в них Аксаков раскрывается едва ли не наиболее полно, письма становятся максимальным подобием личного дневника с его переплетением сиюминутного, повседневного и предельно значимого. В приложении помещены пять статей, четыре из которых касаются персонажей и сюжетов или непосредственно связанных со славянофильством (М. П. Погодин, А. М. Иванцов-Платонов, О. Ф. Миллер), или же, в случае с работой, описывающей формирование концепции русской истории Н. Г. Устрялова, анализируют ту интеллектуальную площадку, на которой будут формироваться и развиваться взгляды Аксакова. Из этой совокупности выделяется эссе, посвященное князю П. А. Вяземскому, однако мы сочли нужным поместить его — поскольку князь в 1810—30-х гг. оказался в ситуации, типологически сходной с аксаковской: отношение к службе, возможность действия вне ее, понимание чести и пределов допустимого компромисса. Разница решений, принятых Вяземским и Аксаковым, помимо их личных особенностей и т. п. , связана и с изменившейся ситуацией: если в 20-е годы за пределами государственной службы для Вяземского никаких других возможностей для жизни деятельной практически не оставалось, то в 50-е гг. сформировалась уже (пусть и весьма слабая) сфера общественная. 4