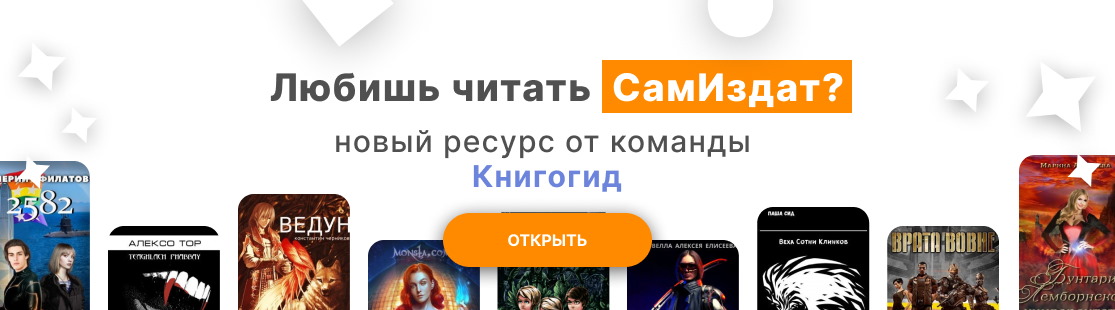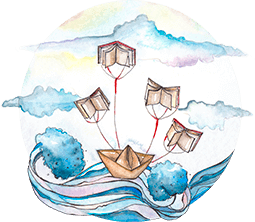Читать онлайн «Очи черные»
Автор Галина Бахмайер
Галина Владимировна Бахмайер
Очи черные
Старый Мишка был горьким пьяницей.
Он одиноко обитал в полуподвальной комнатенке старого, дореволюционной постройки дома, где низкие каменные потолки подавляли своей сводчатой тяжестью, и где всегда жила отдающая плесенью сырость, неистребимая даже вовсю разожженной неказистой печуркой.
Все называли его просто Мишкой; он и сам уже почти забыл собственную фамилию, вспоминая ее лишь когда немолодая почтальонша с вечно поджатыми губами приносила ему его скудную пенсию, брезгливо бросая тощую пачечку купюр на грязную столешницу. Тогда Мишка выковыривал на свет божий замусоленный паспорт и неловко расписывался дрожащей с похмелья рукой.
Пенсии хватало ненадолго. В комнатах наверху жили дальние родственники, седьмая вода на киселе, приютившие его из милости. Сдавать эту комнатенку было невозможно, для путного подвала она не годилась; вот и пустили Мишку, постоянно привлекая его для дачно-ремонтных работ и изредка помогая нехитрыми продуктами.
А на «свои» он в основном пил.
Когда-то Мишка был художником. Писал веселенькие летние пейзажи, залитые солнцем улицы, заснеженный зимний лес… Это для души и на продажу. А для дела — рисовал плакаты, транспаранты, выполнял декоративное оформление залов и прочая и прочая…
Говаривали, что когда-то у Мишки была и жена, и дети, но все куда-то подевались.
Остался лишь одинокий, не просыхающий от гадкого самогона, опустившийся старик, ненужный никому, даже своим случайным собутыльникам.
Однажды тихим сентябрьским вечером Мишка услыхал за окном топот и голоса.
Топотала живущая наверху молодка, гоняясь за своим вечно галдящим, неуемным дитем. Суета разозлила с утра маявшегося головной болью Мишку. Он рывком поднялся со скрипучего стула, распахнул незапирающуюся дверь и по истертым ступеням поднялся во двор.
— Чего орешь, дура?! — рявкнул он, щурясь от яркого с непривычки солнца. — Люди отдыхают, а она тут бегает!
Соседка запнулась, настороженно покосилась на него и отошла к скамейке под тополем.
Мишка сердито посмотрел ей вслед, бурча себе что-то под нос. И тут же умолк, приглядевшись.Рядом с соседкой под пожелтевшим тополем сидела незнакомая Мишке молодая женщина.
Положив ногу на ногу, обхватив колено сцепленными пальцами и покачивая туфелькой, она с усмешкой смотрела на пьяного старика.
Мишка подошел ближе, не сводя глаз, словно завороженный. Тихонько посмеиваясь и кивая головой, незнакомка болтала с соседкой. Лучи осеннего солнца высвечивали блики на ее темных волосах и золотили нежный пушок на смуглых щеках. Подойдя, старик споткнулся, охнул, и женщина повернула голову. На Мишку с насмешливым любопытством воззрились жгучие цыганские глаза.
И Мишка пропал.
Он плохо помнил, что было дальше. Запомнил обрывки собственного пьяного бреда, сводившегося, в основном, к восхищению ее красотой. "Египтянка… гречанка…" Потом что-то про Таис Афинскую, Александра Македонского и про "триста веков до нашей эры"…
Невнимание слушателей не умаляло его вдохновения. Женщины продолжали вполголоса разговаривать, игнорируя надоедливого старика. Но когда Мишка по второму кругу затянул оду "солнцу красоты", муза окинула старика с головы до ног враз отрезвившим его взглядом. Вспорхнувшие черные ресницы явили знакомое презрение и брезгливость. И Мишка вдруг увидел себя словно со стороны — давно немыт, небрит и нечесан; растянутые дырявые треники и стоящий от грязи свитер…