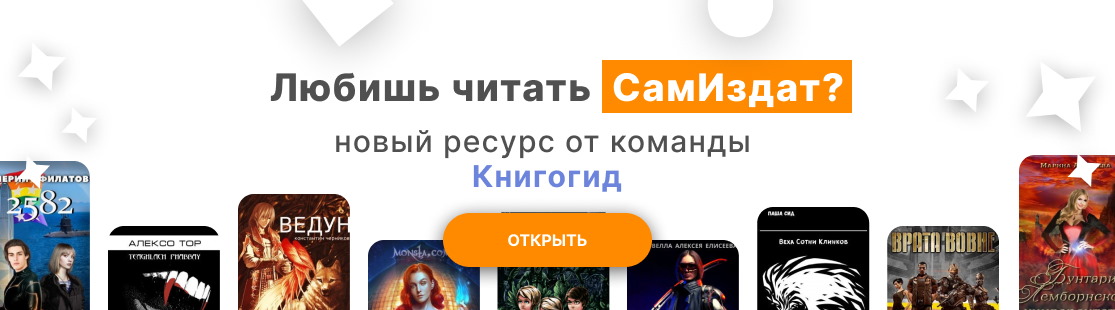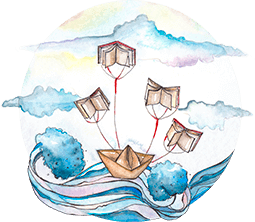Читать онлайн «Раздел имения»
Автор Иван Панаев
Иван Иванович Панаев
Раздел имения
I
…Когда я подъезжал к своей деревне, вечер был ясный и тихий, а воздух растворен благоуханием, точно весною. По мере приближения моего к моему наследию мне все становилось приятнее, и даже лошадки мои стали пободрее: видно, они, сердечные, почуяли близость стойла. Доброй рысцой бежали они по узенькой гладкой проселочной дороге; пристяжные извивались в кольца и мордами задевали наливавшиеся колосья ржи и ячменя. Тот год был отменно урожайный. Любо было смотреть на полосатую степь, засеянную хлебами: рожь сияла, как золото, а подымалась в рост человеческий; ячмени же еще зеленые, но такие тучные, что в иных местах полегли от тяжести колосьев, а между ними красные полосы гречихи, покрытые сверху серебряными цветочками. Овсы были, правда, в тот год немного плоховаты. «Ну, да не все же вдруг, – подумал я, – и за то, что есть, надобно благодарить бога: все мы зависим от его правосудной воли. Он нас награждает, он и лишает нас, а ропот – есть грех…» Вот он, деревянный домик, немного нагнувшийся на одну сторону от ветхости, – место моего рождения; вот роща за этим домиком – место моих детских забав; вот речка Утка. Утка! Утка! в душный летний день я, бывало, купался в водах твоих! по твоей гладкой поверхности спускал кораблики! А этот густой восьмидесятилетний вяз перед домом… Господи! у меня так и забилось сердце, так и закапали слезы. Кибитка остановилась у подъезда, и я перекрестился.
Если бы обладал я самым бойким и красноречивым пером, и тогда не мог бы описать того, что почувствовал, войдя в комнаты, особенно в спальню матушки, где оставалось все, как было при ней.
В углу старинный большой киот, и в нем образа в почерневших от копоти старинных ризах с каменьями; и перед каждым образом свеча желтого воска; диван работы домашнего столяра нашего, обитый ситцем с изображением памятника Минину и Пожарскому; шкап со стеклами, в котором стояли никогда не употреблявшиеся парадные чашки; круглое зеркало с голубем наверху… Воспоминание охватило меня со всех сторон; но к приятности, ощущаемой мною, присоединилась грусть, потому что я в первый раз вполне постигнул невыгоду одиночества и то, что дом без хозяйки все равно, что тело без души. Пыль густым слоем покрывала мебель, а паутина висела около зеркала и киота.В некотором волнении я вышел из дома прямо в рощу. Здесь каждое дерево, каждый куст были мне знакомы. Эта береза посажена дедушкой, этот клен – батюшкой, а этот куст – матушкой. Под этою сосною батюшка очень строго меня наказывал, за что матушка очень рассердилась на него; за этими кустами барбариса я прятался от своей няньки, которая оглашала всю рощу своими криками, зовя меня к маменьке учиться. «Отчего все прошедшее имеет такую необыкновенную приятность?» – подумал я.
Через два дня соседи мои узнали о моем приезде, а на третий день утром приехал ко мне врач нашего уездного города. Он был человек моих лет, из немцев, впрочем, только по имени и по фамилии, а по манерам и по всему нельзя было отличить его от нашего брата русского; рост имел средний, волосы темно-русые и карие глаза, которых зрачки бегали из стороны в сторону с неимоверною, можно сказать, быстротою, что всегда поражало меня в его физиономии.